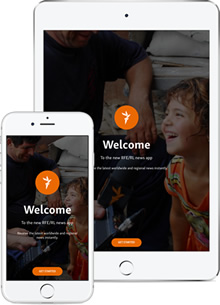Радио Свобода продолжает цикл "Развилки" – серию публикаций о переломных моментах истории, когда она могла пойти совсем другим путем. Какими были исторические альтернативы и почему они остались нереализованными?
Здесь вы можете найти ссылки на предыдущие серии цикла.
Сейм 1788 года виделся как судьбоносный для Польши, урезанной первым ее разделом между соседними странами. Сейму заранее навязывали долг спасти страну и совершить великие перемены. Он был созван как конфедеративный, то есть без права вето, на местных сеймиках разгорались жаркие дебаты, к созыву парламента выходили брошюры с планами реформ, написанные такими известными деятелями Просвещения, как Гуго Коллонтай или Станислав Сташиц, равно как и некими анонимами-консерваторами.
Сейм против императрицы
На этот последний в истории Речи Посполитой сейм, созванный не по воле иноземной власти, делегатов выбирали по-разному: где-то сознательно, где-то подкупом или напоив шляхту вином, с инструкциями, данными им такими магнатами, как Щенсный-Потоцкий или Браницкий. По плану Екатерины II, следовало собрать чрезвычайный сейм. Он должен был конфедерироваться, а потом выбрать делегацию, которая была бы уполномочена заключить союз с Россией. Но дело шло не так уж просто. Маршалом сейма был выбран Станислав Малаховский, сменивший ориентацию с русской на прусскую.
Попытка короля Станислава II Августа сразу предложить заключить союз Польши и России были блокированы нотой прусского посла Бухгольца, предупреждавшего, что такое намерение было бы вызовом Пруссии, лишающим ее возможности быть гарантом целостности польского государства. Бухгольц уверял, что Пруссия не против коренных преобразований в Польше и даже готова поддержать ее возврат к самостоятельности 40-тысячным войском. Получалось, что русская императрица хотела только союза, но не разрешала полякам производить реформы в их государстве, выходя из заданных им рамок, тогда как Пруссия предоставляла им свободу действий, поначалу ничего для себя не требуя, да еще и обещала помощь. Это вдохновляло депутатов сейма.
Екатерина, столкнувшись с позицией Пруссии, отказалась от проекта договора о союзе с Польшей, о чем сообщила королю Станиславу-Августу в письме, в котором указала, что "берлинский двор, узнавши о нашем плане, поднял тревогу и показывает намерение образовать прямую оппозицию". Поскольку это имело бы опасные последствия для спокойствия Польши, императрица находит уместным "в настоящее время приостановить дальнейшее движение начатого дела". Король просил сейм не раздражать Россию, которая "не хочет нашего уничтожения", и не доверять Пруссии, которая ищет момента "в удобное время сделать за счет нас новые приобретения": "Мы можем наделать России затруднений, но это доведет ее до того, что она принуждена будет отдать нас на жертву судьбе нашей, или принять от других предложенную ей часть нашего отечества… Мы опасаемся замыслов прусского короля. Но мы бессильны. Нам нужна опора, и мы ее нигде не найдем без России. Вот по этой-то причине мы должны избегать всего, что может ее раздражать", и следует теперь "не поднимать толков о гарантии" неизменности шляхетских вольностей, подчеркивал Станислав Август.
Нам нужна опора, и мы ее нигде не найдем без России. Вот по этой-то причине мы должны избегать всего, что может ее раздражать
К реформам члены сейма приступили, но как-то странно. Решено было увеличить войско до 100 тысяч. Нужны были средства. Источников для содержания новой армии долго не находили. Лишь к концу марта 1789 года удалось согласовать новые налоги на содержание армии. Зато 7 ноября проголосовали за то, чтобы войско носило форму польского покроя. После долгих споров упразднили войсковой департамент Постоянного совета (правительства), изъяв военных из ведения исполнительной власти, короля и гетмана и переведя их под контроль сеймовой войсковой комиссии и под надзор специального суда.
Российский посол Штакельберг в специальной ноте выразил протест "против нарушения формы правления, освященной торжественным актом гарантии 1775 года". Ему в сейме ответили, что Речь Посполитая – независимая держава, которая имеет право распоряжаться своим внутренним строем. В ответе просили также о выводе русских войск из польских пределов. 24 ноября посол Штакельберг сообщил, что русских войск в Польше нет. Имеется только незначительное число солдат, охраняющих склады.
Пруссия же вела себя иначе. Ее посол в ноте заявил: "Прусский король понимает гарантию 1775 года не иначе, как в смысле ограждения независимости Речи Посполитой, а вовсе не так, чтобы эта гарантия давала право стеснять свободу суждений и вмешиваться во внутренние учреждения страны". Такое заявление опять вдохновило патриотов, усилило критику России и подняло популярность Пруссии.
Русские не только не вывели войск из Речи Посполитой, но и отправили транзитом в пределы Турции через польскую территорию еще три полка. Это дало повод к резким выступлениям против России. Прусский посол послал 2 декабря сейму еще одну ободрительную ноту и уверял в поддержке своего короля. Сейм в своем ответе жаловался на Россию, что она злоупотребляет правами гарантии, и просил Пруссию о защите.
Польша, по воле России, долгие годы не держала при иностранных дворах своих посланников. 9 декабря 1788 года Северин Потоцкий внес проект об учреждении Депутации иностранных дел и о назначении послов в Вену, Берлин, Лондон, Санкт-Петербург и Константинополь, что и было одобрено. В январе 1789 года было решено значительным большинством голосов упразднить, несмотря на его полезную деятельность, правительство в виде Постоянного совета, поскольку он был учрежден по воле России.
Польша демонстрировала самостоятельность. Сейм продолжал требовать вывода российских войск и апеллировать к поддержке Пруссии и Англии. Российский посол реагировал вяло, отправляя просьбы императрице. Наконец, не желая новых ссор, Екатерина пошла навстречу запросам сейма и в июне 1789 года распорядилась о перемещении складов на левый берег Днепра и доставке провианта и оружия своей армии в Турцию, минуя территорию Речи Посполитой.
Волнение в сейме вызвали беспорядки в восточной части Польши православных крестьян, которые приписывались влиянию русских войск, хотя обычно вызывались местными причинами. Но страх резни шляхты крепостными и не имевший под собой оснований слух о начавшемся народном восстании привел паниковавшие власти к массовым репрессиям против невинных людей, взятых по оговорам и доносам. Ряд православных архиереев во главе с Виктором Садковским были арестованы. Это не улучшало отношений с Россией, согласно договору игравшей роль защитника свободы веры, но резких протестов не было.
Уступчивость Екатерины II кружила головы польским патриотам, которые решили, что их страна может заставить себя уважать, и этим Польша обязана самой себе, а не Пруссии, чье заступничество было слабым. Речь Посполитая якобы заставила противника смириться с курсом перемен. На самом деле памятливая Екатерина лишь отложила сведение счетов на будущее. Занятая тяжелой войной с Турцией и Швецией, Россия избегала столкновений с другими державами, будучи уверенной, что вреда от выступлений в Варшаве не будет: предоставленные самим себе, поляки будут шуметь, составлять проекты, спорить, ничего не сделают, а в конце концов какая-нибудь партия непременно обратится к России: тогда можно будет законно вмешаться в их дела. Мешать же реформам сейчас значило подтолкнуть Польшу к Пруссии и ухудшить отношения России с этой страной, что не было нужным императрице в разгар войны.
Патриотический восторг и грустная реальность
Одним из важнейших дел сейма было назначение 12 сентября 1789 года конституционной комиссии, которая должна составить проект основного закона для Польши и представить его сейму. Она состояла из одиннадцати членов: пять – от короля, а еще шесть были выбраны сеймом.
Военная реформа шла еле-еле: денег собрали на 44 тысячи вместо 100 тысяч солдат, войска недокармливались, шли споры военной и бюджетной комиссий. Рекрутов набрали, а средств их содержать не было. Чрезвычайный патриотический налог не могли собрать: подданные декларировали доходов меньше, чем их было на самом деле, и вместо десяти процентов платили три или даже два.
Варшавский президент городского совета Декерт хотел добиться политических прав для всего сословия мещан. Он убедил коллег прислать в Варшаву депутацию от разных городов и подать сейму коллективную просьбу от всего городского сословия в Польше. В старину мещане наравне со шляхтой принимали участие в законодательстве и избрании королей, мещане имели права покупать шляхетские имения, в суде они пользовались такими же правами, как шляхтичи, мещанство в старину было вполне свободным сословием. Теперь через депутацию 17 декабря горожане просили о возвращении древних прав. Король их поддерживал. Консерваторы старались убрать из повестки городской вопрос. 19 декабря 1789 года назначили комиссию для рассмотрения всех актов и привилегий городов, что значило отложить решение дела. Новый прусский посол Джироламо Луккезини докладывал королю Пруссии, что если горожане добьются участия в управлении, то много заграничных мещан переедет в Польшу, а ее пример станет заразителен для соседних государств.
Позиция Пруссии в это время корректировалась. Она ставила союз с Польшей в зависимость от успеха реформ и способности противостоять России. Польше следует ввести у себя новое законодательство, обеспечить прочный порядок, считал посол. До политического союза предлагалось заключить торговый договор и резко снизить пошлины, стеснявшие польский экспорт. Но условием договора стала бы передача Пруссии городов Торунь и Данциг (Гданьск).
Появился и проект основ конституции. Вопреки опасениям, королевская власть в нем была ослаблена, наследуемость трона не вводилась. Центром власти был сейм. Писатель Калинка указывал: "Король хотя и назван там главою народа, но его скорее можно назвать туловищем без головы, без рук и без ног, посаженным на золоченом кресле, так что в сущности выходило все равно: есть ли в государстве король или нет его. Верховная власть – в руках народных представителей, делегатов сеймовых, управление разными ветвями администрации – в руках отдельных комиссий, от короля независимых. Король ничего никому не приказывает, никого ни к чему не может принудить, никого не может покарать".
Король ничего никому не приказывает, никого ни к чему не может принудить, никого не может покарать
Дискуссия разгорелась по вопросу о том, допускать ли к выборам на региональные сеймики безземельную шляхту, которой было легко манипулировать. 30 декабря большинство, вопреки партии магната Браницкого, решило одобрить для доработки решение не допускать на сеймики иной шляхты, кроме владеющей имениями. На том и закрыли дебаты.
8 февраля 1790 года сейм возобновили и опять вернулись к теме нефинансируемой армии, которую пока удалось увеличить до 45 тысяч человек, и дефицита денег в казне, пополнить которую решили новыми налогами, а король пожертвовал полмиллиона, полученных от продажи своих драгоценностей. Австрия предлагала союз, чтобы отвратить Польшу от Пруссии, но ничего не добилась. 15 марта 1790 года в сейме было официально объявлено, что Пруссия готова подписать коммерческий трактат, желая, чтобы в качестве компенсации Польша уступила ей Гданьск и Торунь, но, узнав о негативном эффекте этого требования, снимает его и для облегчения польской торговли обещает снизить таможенные пошлины. Дискуссии о союзе с Пруссией стали публичными. Его противники требовали сначала подписать трактат, а сторонники настаивали на политическом союзе как гарантии польских свобод.
За союз выступил Игнатий Потоцкий: "Нам нельзя оставаться без союза, который бы обеспечивал существование имени и народа польского: иначе это значило бы оставаться жертвою чуждого могущества, чуждых соображений, подвергаться тягости приговора, изреченного в Священном Писании словами: vae soli! ("горе одинокому"). Проект союза был одобрен с разделом о военной помощи в случае нападения, которая могла доходить до посылки для защиты Польши 30 тысяч войск Пруссии, а для защиты Пруссии – 20 тысяч войск Польши, и о возможности денежной помощи. Король Пруссии должен был защищать Польшу и в случае грубого вмешательства в ее внутренние дела. Впрочем, в переписке со Станиславом Августом король Пруссии Фридрих Вильгельм II давал знать полякам, что во что бы то ни стало хочет Гданьск и Торунь, а без уступки этих городов у Польши из заключенного союзно-оборонительного трактата ничего не выйдет, он останется лишь на бумаге. В подтверждение этого не только не были снижены пошлины, но и возникли новые проблемы в торговле по Висле с Пруссией, оказывавшей давление на "союзников".
Пруссия, сосредотачивая войска, оказывала нажим и на Австрию, требуя от нее вернуть Польше часть Галиции, "в обмен" на нужные Пруссии Гданьск и Торунь. Этот план провалился: австрийский император Леопольд II вынужден был выйти из войны с Турцией на условиях сохранения статус-кво, но части Галиции не уступил. Британия способствовала мирному исходу. Польша от передачи торговых городов отказалась: желая себе покровительства, помощи и выгод от Пруссии, она ничего не хотела дать последней. А Пруссия от союза с Польшей, кроме приобретения территории, ничего получить не могла. Разочарование было обоюдным.
В августе 1790 года вопрос об отдаче Пруссии городов встал снова. Пруссия опять давала знать, что Польше необходима ее дружба, а та может быть куплена только ценой уступки территории. Король склонялся к мысли о необходимости отдать по крайней мере Гданьск. Станислав Август сказал на сейме: "Речь Посполитая больна, и лучше ей сделать ампутацию и приобрести дружбу сильного соседа, чем упорным отказом возбудить в нем холодность, а может быть и нажить в нем врага, тем более опасного, что он имеет возможность вступить во владение Речи Посполитой прежде, чем далекие союзники могут прийти к полякам на помощь. Нам предстоит одно из двух: или допустить перемену в судьбе Гданьска и Торуня, или подвергать Речь Посполитую опасности разрушения".
Маршал сейма Малаховский был за уступку. Игнатий Потоцкий говорил, что пока еще можно передачей двух городов купить расположение сильного соседа. Но большинство было против того, чтобы отдавать что-либо после первого раздела страны, тем более что речь шла о единственном приморском городе страны. Наконец, 5–6 сентября 1790 года сейм принял закон, запрещавший предлагать уступку или обмен владений Речи Посполитой.
В патриотическом восторге некоторые магнаты стали лоббировать союзный договор с Турцией о совместной борьбе с Россией за потерянные земли. С трудом король убедил депутатов дать полномочия послу Польши в Константинополе заключить договор с Турцией, как только прусский и шведский послы дадут поручительство, что их страны, в свою очередь, объявят войну России. Так договор, очень волновавший Петербург, не состоялся.
Российская императрица давала инструкции своим дипломатам: выжидать и открыто не вмешиваться в политику Польши, не субсидировать делегатов сейма: "Пусть поживут на счет короля прусского". Екатерине II неприятна была связь Польши с Пруссией и замыслы короля ввести наследственное правление. Новый русский посол Булгаков должен был мешать и тому, и другому, видя в отмене выборности монарха интриги Пруссии и перемены, для России невыгодные.
Напор реформаторов
В сентябре 1790 года сейм взялся за важные деликатные вопросы. Он признал господствующей только римско-католическую религию обоих обрядов: латинского и греко-славянского. Православие наравне с протестантством допускалось лишь в качестве "терпимой" религии.
Один из основных законов должен был определить, должна ли законодательная власть Речи Посполитой находиться только в руках шляхетского сословия. Предложение прогрессивной партии даровать городам право посылать представителей в сейм было отвергнуто.
Продолжались дискуссии о наследственном правлении, то есть о переходе польской короны после Понятовского к одному из европейских принцев, чьи потомки впоследстви владели бы ею наследственно, как это было в остальных монархиях Европы. Прусский король в качестве возможного преемника Станислава Августа, который официально был не женат и имел лишь внебрачных детей, был желаем, но не подходил как протестант. Английскому принцу надо было бы менять конфессию. Король Станислав Август думал как о кандидате о внуке Екатерины Константине Павловиче. В числе претендентов на престол видели также герцога Брауншвейгского и одного из шведских принцев. Большинство склонялось к выбору в преемники Станиславу Августу саксонского курфюрста Фридриха Августа, успешного реформатора, католика по вероисповеданию, к тому же говорившего по-польски.
20 сентября решили во время выборных сеймиков обсудить, можно ли при жизни действующего короля избрать ему преемником саксонского курфюрста. Русский посол Булгаков изо всех сил старался, чтобы преемником Станислава Августа не выбрали прусского принца. Выбор саксонца Петербург не считал делом опасным, зная, что он не решится идти против сильных соседей. "Число друзей России пока невелико, – писал Булгаков, – но оно может вырасти, потому что много было боявшихся наследственного правления, которого не хотела допустить в Польше Екатерина". Она через посла ручалась обеспечить своим сторонникам целость владений и свободу вести внутренние дела. Три коронных сеймика – краковский, полоцкий и киевский – высказались за наследственную монархию, но многие объявили о своем желании держаться старины.
Когда сейм в декабре 1790 года снова открылся, выявилось большое число сторонников России, разочарованных Пруссией, покусившейся на Торунь и Данциг, и посчитавших, что терпимость императрицы во время войны означает смягчение ее политики подчинения Польши. Большинство новых делегатов было против наследственного правления. Дабы пресечь подкуп членов сейма, был принят новый закон и введена смертная казнь за получение "пенсионов" от иностранных держав. Виновный подвергался смертной казни, доноситель награждался восьмой частью его имущества, но подвергся бы той же казни, если бы донос оказался ложным. Под запрет не попадали "пенсионы" за нахождение на службе в иных державах и доходы в тех частях Польши, которые отошли от нее по первому разделу.
В обществе продолжали ходить зловещие слухи и толки. Говорили, что Пруссия добивается примирения России с Турцией именно для того, чтобы вместе с Россией напасть на Польшу. Опять возникла тема передачи Гданьска Пруссии в обмен на выгодный торговый договор, и опять был получен отказ. Прусский король писал послу Гольцу 25 апреля 1791 года: "Поляки чересчур дорожат своим Гданьском и уступать его не хотят, поэтому для меня будет лучше, когда все останется по-старому, и они будут платить мне высокие таможенные пошлины, пока сами не убедятся в неправильности своего расчета. Нечего мне предлагать им выгоды за выгодами: я останусь в нейтральном положении относительно Польши, если она вступит в войну с Россией, тогда пусть себе делают что хотят: увидят, к чему придут". Гольц писал своему правительству, что Пруссии ничего не остается, как сблизиться с Россией за счет Польши: иначе последует сближение России с Австрией во вред Пруссии.
Пусть себе делают что хотят: увидят, к чему придут
Весной 1791 года сейм вел новые дискуссии о расширении прав мещанства и городов, которые в старину пользовались правом участия в судопроизводстве, законодательстве и избрании королей. Станислав Август сказал: "При вступлении на престол я присягал хранить все старые права и привилегии. Оказывается, что города их имеют, и я, исполняя свою присягу, побуждаю чины государства возвратить мещанам то, что им следует". В апреле 1791 года решили: все королевские города признавались свободными, с равными для всех правами, они судились только своим выборным магистратом и находились под юрисдикцией королевских судов. От каждого города посылался уполномоченный на сейм, имевший в городских делах решающий голос, а в остальных – совещательный. Через два года эти делегаты получали дворянство. Мещане получили право поступать на военную службу и в духовное ведомство, покупать имения также с правом получения дворянства. Простого уравнения в правах дворян и горожан не произошло, но мещанам открыли путь в привилегированный класс шляхты. Принятие закона о городах вызвало в Варшаве благодарную манифестацию и украшение центра столицы иллюминацией.
Майская конституция
Пока шли пасхальные каникулы, лидеры прогрессистов Гуго Коллонтай и Игнатий Потоцкий придумали, как принять конституцию целиком, с равенством сословий и наследуемым троном. Решили застать оппонентов врасплох, воспользовавшись отъездом консерваторов в поместья. Без утечки не обошлось. Решено было созвать разъехавшихся из столицы депутатов, чтоб помешать провозглашению конституции. Эту миссию взяли на себя епископ Коссаковский и гетман Браницкий. В ответ реформисты заседание перенесли с 5-го на 3 мая. 2 мая часть депутатов ознакомилась с проектом.
3 мая 1791 года конституционный переворот начался. К замку, где проходило заседание, были направлены войска: два армейских полка и два гвардейских. Собралась взволнованная толпа народа. Выступавший на судьбоносном заседании депутат Солтык говорил, что, по сведениям дипломатов, растет внешняя угроза Польше. Во всех зачитанных депешах сообщались угрожающие сведения о затеваемом соседями новом разделе страны. Вести эти вызвали волнение, которое, как рассчитывали организаторы, должно было помочь одобрить конституцию.
С другой стороны, консерваторы возмущались. Депутат Сухоржевский требовал дать ему слова, упав на пол и простирая руки к королю. Он обвинил противников в заговоре, запугивании и покушении на традиционную вольность: "Теперь хотят запугать нас ожиданием несчастия и тем принудить сейм к принятию проекта, вредного для свободы. Мало этого, носятся слухи, будто сговорились противящихся перебить и сделать свое. Я ничего не боюсь. Я готов пролить кровь за отечество, но я хочу и защищать отечество. Я свободен, но, если в Польше настанет деспотизм, я презираю ее, объявляю себя врагом Польши. Я не намерен спасать ее наложением оков на свободных людей. Знаю, и готов доказать перед судом, что есть намерение возмутить мещан против несогласных с этим проектом". Зачитали новые сообщения послов, пугавшие планами раздела страны. Из Петербурга посланник Деболи писал, например: "Скоро заключится союз Москвы с Пруссией на погибель Польши. Москва всеми силами старается не допустить в Польше порядка и согласия".
Игнатий Потоцкий призвал короля высказаться по вопросу о способах спасения отечества. Станислав Август сообщил о согласованном им с "достойными людьми" проекте основного закона, который и был зачитан. Господствующей религией объявлялось католичество при свободе иных религий. Подтверждались права шляхты, подчеркивалась ее особая роль в сохранении вольностей. Закон о правах городов включался в конституцию. Подтверждались договоры крестьян и помещиков. Власть делилась на три ветви: исполнительную, судебную и законодательную, которую осуществляет сейм, выбираемый на 2 года. Сенат имеет право большинством голосующих отложить законопроект до следующего сейма. Если он вновь будет одобрен сейом, закон вступает в силу. "Исполнительная власть строго обязана соблюдать законы и исполнять их. Она должна оказывать свою деятельность там, где дозволено законом и где законы требуют надзора, принуждать и даже прибегать к силе. Все магистратуры всегда обязаны ей повиновением, и в ее руках находится понуждение непослушных и забывающих свои обязанности".
Названная сильной исполнительная власть, однако, была ограничена. Конституция указывала: она "не может принимать законов, толковать их, налагать под каким бы то ни было именем подати или поборы, делать государственные долги, изменять раскладку казенных доходов, сделанную сеймом, объявлять войну, заключать мирные договоры и окончательно утверждать дипломатические акты. Но она может входить во временные сношения с иностранными державами, улаживать проблемы безопасности и спокойствия страны, о чем обязана доносить ближайшему сеймовому собранию".
В документе решено было сделать польский престол наследственным. Наследником был объявлен нынешний саксонский курфюрст ("князь-избиратель", древний средневековый титул, означавший право его носителя участвовать в выборах императора "Священной Римской империи"). "Династия будущих польских королей начнется с Фридриха Августа, и преемниками его на польском престоле будут его наследники в мужеском колене, и старший сын будет вступать на престол после родителя. Если же нынешний князь-избиратель не будет иметь потомства мужского пола, то супруг его дочери, избранный им для нее с согласия государственных чинов, начнет наследственную линию в мужском колене на польском престоле. Поэтому мы объявляем дочь князя-избирателя Марию Августу польской инфантою, оставляя за народом никаким ограничениям не подлежащее право избрать на престол другой дом, по прекращении первого".
Король приносит присягу "сохранять настоящую конституцию и условия принятия короны", "особа короля священна и неприкосновенна для всякого. Он сам собою ничего не делает, а потому и не ответствен пред народом ни за что. Он должен быть не самодержцем, а отцом и главою народа, и таким его признает и объявляет закон и настоящая конституция". Действительно, роль короля была такова, что при принятии решений исполнительной властью его подпись одобрялась также подписью одного из назначенных им министров: военного, иностранных дел, полиции, печати или финансов. Сейм мог уволить министра через вотум недоверия в две трети депутатов тайным голосованием. В документе была описана система судов и механизм регентства, а также роль войска.
Камнем преткновения в устанавливаемом майской конституцией монархическом правлении стало престолонаследие, независимо от того, насколько неудачно этот принцип ввели в основной закон. Сама идея того, что больше не будет свободных выборов короля, что трон будет переходить потомкам монархов по наследству, для некоторых традиционалистов была неприемлемой, и сторонникам реформ пришлось приложить немалые усилия, чтобы склонить членов сейма на свою сторону.
Проект одобрил маршал сейма Малаховский. Звучала и критика, что проект нарушает условия правления короля от 1764 года. Станислав Август заявил: "Король с народом, а народ – с королем". Дискуссия кипела. Депутат Кицинский в патетической речи призвал сбросить иноземные цепи. "Принимайте проект, спасайте погибающее отечество!" – кричали прогрессисты. Им вторили гости в зале и на галереях. Противники, такие, как депутат Корсак, указывали на волю избирателей: "Таких инструкций, которые бы разрешали вводить наследственное правление и ниспровергать шляхетскую вольность, у нас нет". Станислав Потоцкий, один из составителей проекта, отвечал Корсаку: "Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных средств. Мне мое воеводство приказало поддерживать избирательное правление, но что же делать, когда, по моему убеждению, проект есть средство нашего спасения, именно потому, что он учреждает наследственное правление. Без него, хотя бы я видел у Речи Посполитой огромное войско и неистощимые сокровища, и тогда не сказал бы, что она вне опасности".
После семи часов дискуссии король высказался: "Кто любит отечество, тот должен желать, чтобы этот проект обратился в закон". В финале заседания формально не голосовали, но большинство сторонников конституции фактически перекричало меньшинство. Король присягнул быть верным основному закону. Конституционный акт вступал в силу. Депутаты приняли общую присягу в костеле святого Яна. Переворот состоялся.
Из костела король пригласил всех снова в зал сейма, чтобы подписать закон. Там оставались оппоненты: по данным саксонского посланника Эссена, из 157 участников заседания 69 (50 депутатов и 19 сенаторов) сообщили, что они против конституции. Но победители заявили, что теперь всякий, кто будет противиться конституции и "возбуждать раздоры", будет объявлен врагом отечества и подлежит сеймовому суду. Через день, 5 мая 1791 года, конституцию подписали многие из ее критиков, доехавших на сейм.
Для населения был издан универсал, объяснявший случившееся опасностью для отечества, которое было общей волей короля и сейма спасено. Народ убеждали, что не монархическое правление ведет к рабству, а анархия приводит к рабству и гибели. В провинции поднялась волна приветствий новому порядку правления. Голландский, французский и британский послы вежливо одобряли происшедшее, русский и австрийский молчали, как будто их это не касается. Посол Булгаков не выступал, но писал императрице, что впереди поляков ждет разочарование: "Скоро не захотят сохранить наследственного престола и деспотической власти короля".
В защиту "старинной вольности"
Занятая войной с Турцией, российская императрица не считала своевременным вмешиваться в польские дела и указывала князю Потемкину, что надо "стараться отвлечь поляков от Пруссии... Надлежит их уверять, что мы далеки от вмешательства в их внутренние дела, что мы готовы заключить с Польшей союз, гарантируя целость владений, обещать им разные торговые выгоды". Если же результата не будет, то она видела перспективу в созыве конфедерации (шляхетского военно-политического союза, объединяющего противников центральной власти) недовольных магнатов. Императрица указывала на Браницкого, Щенсного-Потоцкого, Коссаковских как на людей, способных на это дело. Не исключала Екатерина, если это окажется неизбежным, позволить Пруссии сделать территориальные приобретения за счет Польши, при условии, если Россия и Австрия получат свою долю добычи. Так уже намечался новый раздел Польши.
Прусские министры были скорее против перемен в Польше. Король же Фридрих Вильгельм II одобрил изменения в соседней стране в письме послу Гольцу от 9 мая. Пруссия была в конфликте с Россией и Австрией, и Польша могла пригодиться в случае разрыва с Россией, а в случае мира король не был уверен, что с помощью русских получит то, что могли бы ему дать сами поляки. Берлинский кабинет приказал Гольцу уклоняться от всяких объяснений по вопросу о наследовании трона в Польше.
На заседании 3 июня 1791 года краковский депутат Солтык предлагал потребовать от России вывода ее войск из Курляндии, и король обещал дать ход этому патриотическому заявлению. В сейме дразнили Екатерину, а король для успокоения императрицы назначил министрами пророссийских политиков: гетмана Браницкого и канцлера Малаховского. Они же начинали волноваться. Влиятельный магнат Щенсный-Потоцкий писал королю, что акт 3 мая 1791 года не дает гарантий от раздела, и предупреждал: "Эта губительная для вольности революция не может принести для Польши ни тишины, ни безопасности, а станет источником раздоров".
Эта губительная для вольности революция не может принести для Польши ни тишины, ни безопасности
Пока же в сейме утвердили закон о полиции, а конституцию поправили, еще более ограничив власть короля. Право монарха непосредственно назначать сенаторов заменили представлением ему выборных кандидатов. Отменено было королевское право помилования осужденных сеймовым и военным судами и "осужденных на смерть за убийства, казенную покражу и наезды". 28 июня сейм был закрыт до 15 сентября, а по стране прошла серия патриотических праздников, где в рядах прогрессистов торжествовало согласие и единодушие насчет быстрого возрождения страны. На пирах и балах оппонентов в провинции звучало иное: мол, "заговорщики склонили на свою сторону короля приманкой деспотизма, окружили войском сейм, напоили чернь и не дали благоразумным людям открыть рта, грозили их убить". Консерваторы выступали против "прусской интриги", доказывая, что Польша безрассудно раздражает Россию, сама не будучи готова к отпору.
Маршал (председатель сейма) Малаховский в это время писал своему племяннику: "Москва нас не трогает, и мы ее не трогаем". Екатерина же указывала послу Булгакову: "Надеюсь, что друзья старинной вольности в Польше, буде таковые остались, нам отдадут справедливость, что всеми мерами, как трактатами, так и самим делом, мы старались предохранить палладиум польской вольности и что они во всякое время найдут в нас готовность и подкрепление, но только тогда, когда они покажут, что готовы не одними словами к тому подвизаться". Императрица ждала, что ее польские союзники выступят и призовут Россию на помощь.
Непонятная народу конституция вызвала ряд крестьянских волнений. Король издал универсал, констатирующий попытки "отклонять народ от послушания панам своим, от исполнения повинностей и платежа податей". Он предлагал, чтобы сначала "употребляли кроткие и вразумительные меры", а потом, когда они не подействуют, и "принудительную власть, законом дозволенную". "В случае же продолжительного упорства прибегать и к военной силе для удержания подданных в зависимости и послушании". А зачинщиков превратного толкования законов "предавать суду и справедливому наказанию". Страх крестьянских бунтов отталкивал обывателей от конституции. Только немногие передовые люди заявляли о желании освободить своих крестьян, для начала переводя их на оброк (чинш).
В конце октября и в январе сейм издал законы об устройстве городских и коронных судов. В поисках дополнительных средств стали обсуждать продажу коронных земель. Король высказался против продаж земель, переданных в пожизненное владение. К концу декабря решено "продать все королевщины с публичного торга, в потомственное владение", с обеспечением нынешним пожизненным пользователям половины доходов.
Пока депутаты решали жизненно важные вопросы, их оппоненты не теряли время. Магнат Щенсный-Потоцкий подал князю Потемкину план составить конфедерацию против конституции 3 мая и просил покровительства и помощи русской императрицы. Насчет этого Екатерина выразилась одобрительно: "Установление конференции вольных, которая, уже представляя нацию, могла бы объявить незаконным все, что в Варшаве было или будет сделано, есть совершенно необходимо". Но Екатерина советовала это сделать до того, как российские войска войдут в Польшу. Полного уничтожения ее императрица еще не желала: "Польшу же в таких постановим пределах, что какое бы ни было ее деятельное правление, не будет она уже составом своим опасна для соседей и станет служить только между нами барьером". Станислав Август писал Екатерине II, желая получить одобрение реформ, но ответа на письмо не получил. Как видим, росла в 1792 году вероятность либо нового раздела страны ее соседями, либо полного упразднения государства, чего многие в Польше не сознавали.
Меж тем генерал артиллерии Щенсный-Потоцкий и гетман Ржевуский не явились в сейм для принесения присяги, а по прошествии трех месяцев прислали письма об отказе от нее. Первый заявил: "Не хочу поддерживать той конституции, которая отнимает у отечества вольность и устанавливает самовластие". Второй предрек: "Установление наследственного и самодержавного правления повлечет за собою раздел Польши. Соседние державы не потерпят возникающего у своих границ государства с таким правлением, и как только не найдут средства отвратить переворота, то приступят к разделу". Обоих сейм лишил должностей. С гетмана Браницкого взяли подписку в верности конституции 3 мая. В марте 1792 года Браницкий уехал в Петербург, чтобы погубить эту конституцию.
Над Польшей сгущаются тучи
В прусской политике меж тем наступили перемены, в Берлине сделали выбор в пользу союза с Австрией. 7 февраля 1792 года в договоре двух стран вместо обязательства поддерживать свободную конституцию Польши они принимали на себя "охранение свободы и независимости Польши". Это открывало путь к сделкам с противниками конституции. Продолжавшееся молчание России не позволяло пока ни Австрии, ни Пруссии на что-нибудь решиться по отношению к Польше.
Но близкое заключение мира России с Турцией приближало момент истины. Посланнику Пруссии Генриху Леопольду фон дер Гольцу показали письмо Екатерины II: по заключении договора императрица прикажет двинуть 180 тысяч солдат в польскую часть Украины. Через некоторое время Россия сделала приглашение Берлину и Вене разработать соглашение о мерах, предупреждающих беспорядки в Польше, и о степени целостности, гарантируемой Речи Посполитой.
28 февраля 1792 года императрица сообщила пруссакам, что "имеет намерение изменить границы и судьбу Польши". Прусский король давно ждал такого приглашения. Австрию Екатерина извещала, что она твердо решила поддерживать свою гарантию прежнего правления, установленного в 1775 году, и намерена отменить конституцию 3 мая 1791 года.
Польшу же в таких постановим пределах, что какое бы ни было ее деятельное правление, не будет она уже составом своим опасна для соседей
В ответ России предложили присоединиться к союзу, заключенному 7 февраля между Пруссией и Австрией. На это 15 мая Петербург отвечал, что в договоре есть статья, которая противоречит видению императрицы. 27 июня последовала совместная декларация Австрии и Пруссии к России. Оба государства требовали участия в решении судьбы Польши. Австрия сообщила, что прислушается к запросам петербургского двора, если он вступит в союз против революционной Франции, а статья о Польше в трактате будет заменена обязательством в польских делах действовать совместно и согласованно. Так в 1792 году быстро складывалась коалиция империй за новый раздел Польши и упразднение ее конституции.
Тем временем в Варшаве Игнатий Потоцкий и его партия были ошибочно уверены, что смерть австрийского императора Леопольда II и вступление на трон его сына Франца II сделают союз Австрии и Пруссии антироссийским, хотя на самом деле Франц II был известен своим расположением к России. Прусский посол сказал Станиславу Августу: "Король мой не намерен более возобновлять переговоры о соглашении Польши и Пруссии на основании уступки Гданьска и Торуня. Если бы Польша предлагала их сама, Пруссия уже не приняла бы их". Это был дурной знак для поляков.
Русский посол Булгаков не терял времени даром: он составил список из 90 видных персон, сенаторов, депутатов и епископов, которые готовы были при поддержке России бороться против конституции. Щенсного-Потоцкого и Северина Ржевуского милостиво приняла императрица. Было решено, что недовольные конституцией магнаты созовут конфедерацию, а императрица поможет ей своим влиянием и пошлет свои войска в Польшу для изменения системы власти. Заговорщики получили в Петербурге полномочия создать конфедерацию и уехали для начала мятежа в Подолию.
Вдобавок в апреле 1792 года саксонский курфюрст отказался принять приглашение наследовать престол на польских условиях, пока Австрия, Россия и Пруссия не одобрят перемен в образе правления. Фридрих Август требовал в конституции закрепить присягу войск королю, лишение сейма прав отстранять назначенного им главнокомандующего и выбирать жениха его дочери.
На секретном заседании 16 апреля 1792 года сейм решил принять меры для обороны: разрешить королю пригласить опытных иностранных генералов и офицеров, сделать заем на военные нужды. 21 апреля было сообщено, что 100-тысячное русское войско собирается на границе. Сейм решил увеличить армию до 100 тысяч, призвав рекрутов. Верховная власть над войском предоставлялась королю.
Несмотря на военные заботы, годовщину конституции 3 мая 1792 года отметили парадом, салютом из ста орудий и торжественной мессой в присутствии короля и депутатов в костеле Святого Креста. Великий коронный маршал Мнишек угощал министров, сенат и дипломатический корпус. Земские коронные послы и уполномоченные от городов обедали у маршала Малаховского. Литовский маршал Игнатий Потоцкий угощал сенаторов и министров Литвы. Сапега взял на свое попечение земских послов и уполномоченных из Литвы, а президент города Варшавы Закржевский давал пир в Радзивилловском дворце для 200 граждан из разных городов. Торжества с иллюминациями прошли и в провинции и заняли несколько дней.
"Многие готовы сойтись лучше с Россией"
Решение об интервенции императрица приняла еще 29 апреля 1792 года, и посол Булгаков имел на руках декларацию о вводе войск, которую в нужный момент должен был объявить. Прусский дипломат Луккезини заявлял Игнатию Потоцкому, что Пруссия не принимала участия в том, что сделали польский король и сейм, а потому и не обязана оказывать помощь Речи Посполитой против России, так как об этом не сказано в союзном трактате. Польским властям оставалось только принимать новые законы об увеличении армии и о карах изменникам, которым грозили конфискацией имущества.
18 мая 1792 года посол Булгаков вручил декларацию императрицы Екатерины II. В ней польская нация была обвинена в том, что "во зло употребила оказанные императрицею благодеяния", а захватившая власть фракция вопреки гарантиям "самовольно создала новое монархическое устройство, уничтожающее свободу и благосостояние, хотела поссорить Польшу с соседними государствами, преимущественно же с Россией, державою издавна дружелюбною Польше, и наносила ей оскорбления".
Императрица, как было заявлено, "различает фракцию от нации". Она "не могла не склониться к настоятельной просьбе многих поляков, желающих восстановить древнюю свободу и независимость своего отечества". "Составляя с этой целью конфедерацию, они обратились с просьбою о помощи и покровительстве к императрице, и государыня обещала им помощь, а потому повелела части своих войск вступить в Польшу для восстановления древних польских прав и вольностей".
Повелела части своих войск вступить в Польшу для восстановления древних польских прав и вольностей
Поляков убеждали вернуться к прежней присяге 1765 года вместо "данной ими по ошибке или по принуждению, по насилию и обольщению" и "защищать свое прирожденное свободное республиканское правление". Тех, кто станет "сопротивляться благодетельным намерениям императрицы и патриотическим желаниям своих сограждан", ожидает "суровое с ними обращение".
21 мая 1792 года декларация была зачитана в сейме. Король в своей речи предложил обратиться к главам Австрии, Саксонии и Пруссии. Он деликатно заявил, что императрица действует на основе ложной информации: "3 мая 1791 года совсем не происходило насилий, о которых говорится в декларации, и наше новое правительственное уложение не ниспровергает ни свободы, ни республиканского строя", – сказал Станислав Август. Подумать об обороне отечества он предложил на закрытом заседании. 22 мая 1792 года сеймом было постановлено отдать верховное командование над войском королю, с полным и неограниченным правом заключать перемирия и договоры, кроме окончательного мирного трактата, предоставленного исключительно сейму. 24 мая утвержден был новый военный налог. 29 мая 1792 года, в последний день четырехлетнего сейма, постановили дать королю право в случае надобности призвать к вооружению обывателей тех воеводств, которые подвержены будут опасностям войны, и выбрать полковников над ополчением шляхты.
В декларации правительства, которую русскому послу подал вице-канцлер Хребтович 1 июня 1792 года, был дан вежливый и даже подобострастный ответ на конкретные обвинения императрицы, а пункт о применении механизма гарантии к использованию трактовался как возможный только в случае просьбы законной власти Речи Посполитой, а иначе недовольные будут опираться на иностранное вмешательство. Хребтович сказал послу России: "Мы видим, что Пруссия нас обманула, она нас натравила, а теперь видимо изменяет нам. Многие готовы сойтись лучше с Россией, лишь бы отомстить коварному союзнику". Булгаков сделал вывод: "Они будут избегать драк. Чем глубже наши войдут в их земли, тем труднее у них будет сбор податей, остановится набор людей, и новая конфедерация возьмет верх".
Польша делала попытки призвать на помощь Пруссию, но поездка Станислава Потоцкого в Берлин была безуспешна. Попытки задействовать Австрию и Саксонию также оказались неудачны. Взять кредит у Голландии не удалось. Войско составляло чуть больше 50 тысяч, было плохо обучено и слабо вооружено. Офицеры и генералы были неопытны, кроме генерала Тадеуша Костюшко, участвовавшего в американской войне за независимость. Проблемой была деморализация передовых людей, начиная с короля и кончая патриотической шляхтой, а масса населения была равнодушна к переменам.
Интервенция
64 тысячи русских войск под командованием генерал-аншефа Каховского вошли в Польшу четырьмя колоннами, желая окружить польскую армию. Во главе конфедератов были Щенсный-Потоцкий и Северин Ржевуский. Конфедерации веками считались легальным явлением, конкурирующей властью. Сейм, создавший конституцию 3 мая, объявлен был "насильственным", акт составления конституции назван заговором, а все постановления этого сейма конфедераты назвали беззаконными и недействительными. Конфедерация обещала вернуть выборность короля и шляхетские свободы. Ради внутреннего спокойствия и мира с соседями инициаторы Тарговицкой конфедерации "обратились к помощи великой государыни". Опираясь на Россию, тарговичане, возможно, не подозревали, что последствия их шагов выйдут не такими, каких они ожидали. Но они были совершенно правы, когда говорили, что действуют по воле немалой части шляхетства. Если бы Екатерина, восстановив прежний строй в Польше, оставила ее в прежнем виде, без раздела и без присвоения территории, тарговицкая партия надолго стала бы популярной в стране. Будь же конфедераты умнее, они бы просчитали, что Екатерина и в случае их победы не отказалась бы от захвата новой части территории Речи Посполитой.
Конфедераты призывали содействовать русским войскам как союзникам в борьбе против варшавского "заговора". Они перевели на себя платежи налогов, ввели цензуру и, продвигаясь за русским войском, где рублями, а где батогами привлекали к себе шляхту. Вскоре имя Екатерины II звучало в указах конфедератов в двух третях провинций Польши.
Военные действия были для жертвы агрессии неудачны. Был небольшой успех под Зеленцами, где поляки дали отпор наступающим. Но без боя сдали Полонное с большими военными запасами. Предложение перемирия Каховский отверг. Польская армия отступила до Дубно. Генерал Рудницкий оставил армию, перешел к русским, признал Тарговицкую конфедерацию. Сражение, которое Костюшко с меньшими силами дал генералу Каховскому на Буге, окончилось отступлением, противник захватил Люблин. Литву с Вильно заняли еще раньше, в середине июня, без боев. Дворяне Литвы признали конфедерацию. Присягавшие конституции теперь объявляли о покорности российской власти.
Денег на войну королю не хватало: платежи из занятой противником зоны прекратились, они шли в казну конфедерации, а со своей территории – снизились. Часть правительства выступала за то, чтобы во что бы то ни стало примириться с Екатериной, часть – готова была воевать. Прусский король отказал в помощи, он готов был лишь выступить посредником. Для Австрии, как и для Пруссии, побежденная Россией Польша была в будущем материалом для вознаграждения за издержки, понесенные в коалиции против революционной Франции.
Ради прекращения кровопролития Станислав II Август писал Екатерине 22 июля, вновь предлагая польский трон ее внуку Константину: "Нам нужно правление, устроенное внутри лучше, чем то, которое было у нас до сих пор. Дайте нам в наследники вашего внука, князя Константина, пусть вечный союз соединит две страны, и к этому присоединится взаимно-полезный торговый договор". 28 июня Пруссия объявила через своего посла, что прусские войска войдут в Польшу, если поляки не прекратят войны с Россией. Им было сообщено о просьбе короля о перемирии. 11 июля 1792 года король писал, что уже вся Литва и Украина потеряны и не могут дать ни гроша, а половина Польши и без того совсем не платит налоги и не доставляет войска. Тарговицкая сторона повсюду начала брать верх, по мере того как дворяне узнавали, что русские войска побеждают польские.
Екатерина II ответила Станиславу Августу, что "самая здоровая часть Польши" составила "конфедерацию для восстановления прав, неправедно похищенных. Я обещала ей мою помощь и буду оказывать ее со всею силою, насколько позволят мои средства". Царица советовала королю, не теряя времени, присоединиться к конфедератам. Идея внука–престолонаследника ее не привлекла.
Король созвал совет, и часть его высказалось за присоединение к конфедерации и сдаче конституции. Даже радикальный Коллонтай предлагал подчиниться "воле превозмогающей силы". "У Польши войска 35 тысяч, и содержать его нет денег, у императрицы 100 тысяч, да еще прусские войска войдут. Мы ожидаемо потерпим поражение. Куда король уйдет?" – спрашивали противники патриотов. Называли Венгрию и Галицию, принадлежавшие австрийским Габсбургам. Но они не были союзниками… Восемь советников высказалось за сдачу, пять – против. Король принял сторону большинства. На другой день он подписал документ о присоединении к конфедерации и приказ о том же войскам. Был издан королевский манифест, объяснявший, что сделано все возможное, но денег в казне на войну нет, а в мирных условиях останется шанс сохранить часть решений сейма. Противники сделки уехали в Дрезден. Король на эмиграцию не решился, как и на отречение от престола. Войскам частично было предложено распуститься, часть была взята под командование гетманами конфедерации Браницким и Ржевуским. В Варшаву была направлена комиссия конфедератов, чтобы гвардия и государственные чины присягнули по формуле: "Буду верен королю, а послушен только одной конфедерации". Критикам переворота пригрозили судами.
Буду верен королю, а послушен только одной конфедерации
Генеральная конфедерация уже не была протестом против нововведений. Она сделалась верховной властью, захватив весь механизм управления. Король был вынужден каяться в своей присяге конституции и осуждать содеянное за 4 года сеймом. Дворянству был дан приказ до 15 августа отречься от конституции и объявить о лояльности к конфедерации, для чего проводились конференции в воеводствах. Войска гвардии были выедены из Варшавы и заменены российскими. Реформаторы были обвинены в угрозе старым порядкам и в якобинстве. В рамках борьбы за нравственность в дни рождественского поста запретили в шинках и ресторациях музыку и танцы, под угрозой штрафа в 500 гривен.
Борцы за старый порядок учинили, по мнению современников, бесправие, насилие и грабежи, овладевали чужими имениями и были оправдываемы судами, которые решали дела неправильно и пристрастно. Русский дипломат Сиверс писал, что "хоть конфедерация в начале и оказала нам услуги, но потом наделала нам же несравненно более зла своим неправосудием, насилием, грабежами, именно тем, что все это производилось под охраной русского оружия. Под покровительством России дозволено было ей иметь неограниченное влияние на занятие должностей, и особенно на судебные приговоры, за что она заслужила великую ненависть".
"Для пресечения беспорядков якобинского толка"
В это время шла война с революционной Францией. Поход австро-прусских войск закончился поражением под Вальми. Прусский король за дальнейшее участие в войне запросил вознаграждение за счет Польши. Австрия претендовала на Баварию или на часть Польши. Она поддержала Пруссию перед Россией. Императрица Екатерина II 5 декабря 1792 года дала согласие на вступление прусских войск в Польшу. Города Гданьск, Торунь, Калиш и Познань отходили к Пруссии. Екатерина II выдвинула ответный проект, что ей угодно аннексировать у Польши правобережную Украину и часть Беларуси. Новому послу Якову Сиверсу была еще в декабре 1792 года дана информация о плане царицы: «Избавить землю и грады, некогда России принадлежавшие, единоплеменниками ее населенные и единую веру с нами исповедующие от соблазна и угнетения им угрожающих». Окончательное соглашение с Пруссией и Австрией было подписано 12(23) января 1793 года в Санкт-Петербурге, но оно держалось в тайне. Хотя утечки и были, и их опровергали.
16 (27) января 1793 года прусский король объявил о решении ввести в Великую Польшу войска под командой генерала Меллендорфа «для подержания в этом крае спокойствия». Пруссаки обезоруживали польские гарнизоны, забирали деньги в таможнях, попытки сопротивления пресекались. Конфедерация протестовала, в феврале даже грозила собрать ополчение, на что Пруссия не обращала внимания. А российские войска постепенно расквартировывались по всей стране.
Посланник Яков Сиверс всем управлял в Польше как наместник, опровергая слухи о разделе. 15 февраля 1793 года должен был открыться новый сейм в Гродно, куда русский посол обязывал прибыть Станислава-Августа. Императрица в письмах требовала, чтобы король ехал в Гродно на сейм. Король ехать не хотел, предполагая, что его «заставят подписать новый раздел Польши». Он ставил вопрос о своих долгах, деньгах, истраченных на армию и строительство. Посланник обещал, что сейм этот вопрос решит.
Видные деятели умеренных взглядов: подскарбий литовский Огинский, маршалы коронный и литовский, Мошинский и Тышкевич настраивали короля, советовали ехать в Гродно, но, открывая сейм, стоять на том, что ни он, ни члены сейма не станут подписывать никаких унизительных уступок. Своим примером предотвратить раздел Польши. Огинский говорил: «Не найдется такого негодяя, который приложил бы руку к подписи о разделе Польши, когда вы, король, смело откажетесь это сделать. Все угрозы русского посланника уступят перед единодушием. Он его не ожидает. Он должен будет писать в Петербург, а между тем выиграется время, а тут могут случиться события во Франции, которые заставят Россию и Пруссию приостановить свое дело. Что смеет сделать русский посланник с королем и со всем собранием сейма? Не может же он отправить в Сибирь всех членов сейма или изрубить их саблями! Наконец, если все-таки приведут в исполнение раздел Польши, тогда лучше пусть нас возьмут военной силой, с которою мы не можем бороться, чем принудят нас самих оправдывать нападение на нашу страну».
В воскресенье 27 марта (7 апреля) 1793 года в местечке Полонном на Волыни русским генералом Кречетниковым был опубликован манифест императрицы о новой границе между Россией, вводимой "для пресечения беспорядков якобинского толка и своевольных замыслов перемен правления". Присвоена была в основном правобережная Украина до Галиции. Объявлено, что новые земли "будут навсегда оставаться под скипетром Российской империи", а "обыватели этих провинций и жители всякого звания поступят в число российских подданных". Все они должны были бы присягнуть новой повелительнице, а отказавшееся присягать обязаны продать поместье или имущество в 3-месячный срок под угрозой конфискации.
Одновременно свой манифест 25 марта 1793 года обнародовал и король Пруссии, объявив о согласованном с Россией присоединении западной части Польши, городов Гданьска и Торуня "ради защиты народа от беспорядков, анархии, яда зловредной науки, которой заразились обыватели". Сейм призывался "дружелюбно исполнить дело", а население занятых Пруссией провинций должно было присягнуть власти Фридриха Вильгельма II.
Посол Яков Сиверс в ноте заявил Тарговицкой конфедерации, что Россия и Пруссия с согласия Австрии "не нашли для своей безопасности иного средства, как заключить Речь Посполитую в более тесные границы, устроив для нее существование и пропорцию, приличные государству среднего размера, чтобы этим способом облегчить ей способы, не нарушая своей старинной свободы, устроить и удержать мудрое и стройное правление, достаточно сильное для укрощения и предотвращения всяких беспорядков и смут, так часто вредивших спокойствию и ее собственному, и соседних с нею государств". Императрица и король "предотвратили полное уничтожение Речи Посполитой, которой угрожают несогласия и заблуждения, путем немедленного принятия во владение пограничных провинций". Сейм весьма цинично был приглашен прусским королем и российской императрицей все это "дружески обсудить".
Станислав Август тянул с созывом сейма, чего от него требовал Сиверс, и даже часть конфедератов теперь возмущалась. Видные конфедераты Валевский и Ржевуский заявили протесты. Сиверс принял меры: он перекрыл сплав по Висле и Неману и грозил секвестром имений недовольных панов. Конфедерация объявила, что "не принимала участия в разделе Польши" и возобновляет работу Постоянного совета в обновленном составе, собрав часть старого правительства. Король в беседах с Сиверсом то грозил отречением, то говорил о погашении долгов, что ему было обещано. Именно 3 мая 1793 года, во вторую годовщину принятия конституции, королю пришлось подписать указ о созыве 27 мая выборных сеймиков, а общего сейма – 17 июня в Гродно. Сиверс проплатил деятелям конфедерации Косаковскому, Забелло и другим нужные результаты выборов. Шляхтичам раздавали небольшие суммы по 10–20 червонцев за правильное голосование, а депутаты получали жалование от 100 до 500 червонцев в месяц. Организаторы "выборов" не позволяли волновать народ дискуссиями. Часть выбранных боялась секвестра поместий, часть считала, что лучше уж Россия, чем Пруссия.
Не нашли для своей безопасности иного средства, как заключить Речь Посполитую в более тесные границы, устроив для нее существование и пропорцию, приличные государству среднего размера
Деятельность сейма в Гродно началась с процедурных споров и попыток срыва заседаний. Силами русских военных группу активных депутатов арестовали. С ответом на ноты Пруссии и России выступил король: «Решил ни под каким видом не подписывать какого бы то ни было трактата, который имеет целью лишить Речь Посполитую хотя бы самой малейшей части ее владений. Надеюсь, что и члены сейма, связанные тою же клятвою, с удовольствием последуют моему примеру". Станислав Август предложил дать Екатерине вежливый ответ, приведя доводы в пользу возвращения занятых земель. Его удостоили оваций. Началось было обсуждение ответа, но послы Сиверс и Бухгольц 13(24) июня потребовали назначить делегации для подписания договоров с Россией и Пруссией. Тогда решили назначить депутацию с инструкциями обсуждать вместо аннексии возможность союза с Россией и улучшения правления в Польше, но не вести речь об уступке земель.
Наместник-дипломат Сиверс в ответ на затяжку времени 1 июля наложил секвестр на ряд имений пана Тышкевича, а также на королевскую казну и казначейство. Депутаты решили вести переговоры с одной только Россией, а не с Россией и Пруссией вместе. Тогда Сиверс арестовал 16 особо оппозиционных депутатов. Ему грозили прекратить работу сейма, и всех задержанных, якобы "по ошибке", наконец выпустили. Опять занялись делегацией и проголосовали за то, чтобы ее членам были даны полномочия "заключать и подписывать все, что ими признано будет полезным и согласным с интересами Речи Посполитой". Этого и надо было России.
Членов делегации хотели выбирать, но после новых угроз Сиверса передали это право королю, который назначил послов не в согласии со списком, данным ему русским послом, хотя после настояний Сиверса добавил еще 7 его кандидатов. На переговорах Яков Сиверс требовал подписать договор о передаче земель России. От него отговаривались отсутствием полномочий и хотели писать императрице, чтобы она пощадила Польшу. Сиверс начал грозить за увертки и проволочки войной с Россией.
16 июля требования посла России дать делегации безграничные полномочия обсуждали на заседании сейма. Депутат Шидловский предлагал ответить на силу твердостью и не отступать. Ему возражал Лобаржевский: "Нам, бессильным, лучше склониться перед насилием, оставить Европе решение дел наших, а себе – спокойствие и порядок, склоняя народ к той надежде, которую он давно уже имеет в великой Екатерине". Коллаборационисты выработали решение: "Сейм не видит другого спасения для Польши, как отдать свою судьбу в руки великой государыни, которая, видя беспредельное доверие, оказываемое ей польскою нацией, без сомнения, не захочет ее конечной погибели. По этим соображениям, чины государства, узнав, что российский посланник не дозволяет никакой перемены в проекте трактата, поданном им же, соглашаются, чтобы депутация, назначенная для переговоров с означенным посланником, подписала этот проект".
"Уступая силе"
17 июля 1793 года король призвал "отсрочить ужасную минуту раздела нашего отечества". Он высказался за то, чтобы просить русского посланника "дать хотя бы короткий срок сейму, пока посланный нами курьер воротится от императрицы". Сиверс дал ответ: "Я получил недавно еще приказание ее императорского величества не изменять ни одного слова в проекте трактата. Поэтому, господа, толки ни к чему не поведут. Если сегодня же не будет дано депутации полномочия подписать трактат, я буду поступать с Польшей как с неприятельскою землей".
Король явно был сломлен. Станислав Август признал, что сил сопротивляться у него нет: "Уступая силе, мы, по крайней мере, спасем остаток отечества от больших еще несчастий. И, кто знает, быть может, великая государыня проникнемся нашим смирением до того, что окажет великодушие к несчастной нации!" Решавший судьбу страны проект набрал в сейме большинство: 64 против 20 голосов. Депутация получила полномочия "подписать, не допуская никакой отмены, трактат с Россией в тех статьях, какие даны г. посланником в его ноте, и какие признаны уместными той государыней, которая так часто держала в руках своих судьбу народов, и которую несчастный народ избирает судьей". Депутация подписала трактат 22 июля 1793 года, отчуждавший у Польши территорию, как в нем уверялось, "для прочнейшего утверждения взаимной дружбы".
В нем было записано, что Речь Посполитая уступает перечисленные в договоре земли. Она отказалась на вечные времена от всяких притязаний на эти уступленные провинции. Императрица же отказывалась "на вечные времена, как за себя, так и за наследников и преемников своих, от всякого права и притязания … при каких бы то ни было обстоятельствах или происшествиях, на какую-либо область или малейшую часть владения, заключающегося теперь в Польше". Царица обещала "не сопротивляться никакой перемене в образе правления, какую в нынешнем положении дел польских его величество король и Речь Посполитая признают за лучшее учинить в древней конституции" на этом сейме. Императрица обещала свободное отправление богослужения и церковного порядка римско-католической религии в России. 6 (17) августа 1793 года грабительский и лицемерный договор был ратифицирован сеймом: 66 депутатов – за, 20 – против и 1 воздержался.
Попытки затянуть переговоры с Пруссией от оформления захвата ею польских земель были малоудачны. Было указание вести эти переговоры только о торговых делах, а вопрос о присвоении Пруссией областей не обсуждать без воли сейма. Но собравшихся подстегнул угрозами Яков Сиверс, да и Пруссия обещала новые несчастья. Тем не менее, депутаты требовали остановить переговоры, ссылаясь на нарушение Пруссией предыдущих трактатов, особенно 1790 года. 16(27) августа дебаты шли так бурно, что прусский посол Бухгольц предупредил в ноте, что войска его страны готовы приступить к боевым действиям. А Сиверс 3 сентября потребовал дать делегатам полномочия подписать трактат с Пруссией. Попытка прервать переговоры не удалась: сломленный король объяснил депутатам, что пруссаки разорят беззащитную страну и потребуют еще большего. Холмский епископ Скаржевский поддержал его: "Поневоле народ должен уступать то, что удержать не в его силе. Если мы не станем вести переговоры с прусским послом, то через это не возвратим себе ни пяди земли, а ведя переговоры, можем надеяться, что и братьям нашим, идущим под чужое владычество, окажем помощь, и сами избавимся от больших несчастий. Если нам противно уступить области, то по крайней мере постараемся, чтобы был заключен выгодный торговый трактат, и непременно за поручительством России". И опять упаднические настроения овладели залом сейма, но последовали новые стычки и столкновения.
На следующий день Сиверс ввел под предлогом заговора против короля в королевский замок и в зал заседаний сейма войска, требуя одобрить трактат с Пруссией под угрозой действий двух батальонов: "Дать почтенной депутации полную власть и точное приказание подписать трактат, составленный при высочайшем посредстве августейшей государыни с г. прусским послом". Фактически арестованные в зале заседаний на 20 часов польские депутаты, оговорив использование против них насилия и угрозы интервенции, одобрили подписание делегатами договора о передаче земель Пруссии при условии заключения выгодного торгового трактата со свободой плаванья по Висле. Пруссия увеличивала свое населением на миллион человек.
Россия получила от сейма одобренный Екатериной II 3 сентября 1793 года союзный трактат, фактически подчинивший ей всю внешнюю политику Польши и дававший возможность вводить в любое время на территорию соседнего государства войска.
Второй раздел Польши, в этот раз между королевством Пруссия и Российской империей, состоялся, лишив Речь Посполитую выхода к морю через Данциг, развитых западных земель и сельскохозяйственных территорий востока страны. Речь Посполитая стала небольшой страной площадью в 200 тысяч квадратных километров и населением 4 миллиона человек.
Законная попытка модернизации польского государства была пресечена интервенцией двух соседей. Императрица Екатерина II, казалось, подчинила себе остаток Польши, формально сохранившуюся шляхетскую республику с избираемым королем, что не могло не вызывать в польском обществе возмущения. Материал для политического и социального взрыва был накоплен очень быстро, не хватало только поводов и вождя, но они нашлись. Об этом – следующий рассказ.